«Спасибо вам, длинные, неуютные дороги, до глубины своей русские». МИТРИЧ
Душевная печаль у людей творческих профессий ничуть не меньше, нежели у иных. Однако принято считать, что плоды их трудов едва ли не индульгенция от смерти и забвения. Остаются фильмы… Остаются книги…
Останемся и мы наивными идеалистами, поверим. И возьмёмся за книгу Митрича. За ту бледно-зелёненькую, первую и последнюю до сего дня, значимо говорившую в названии, что «Тут вам не там». Интересно, получил ли автор подтверждение своему заявлению?
Не заметить, что вся она пропитана мистикой, нельзя. В ней каждая строчка, даже самая бытовая, каким-то третьим планом подразумевает тот же самый извечный вопрос: про там. Сдаётся мне, что не обошлось тут без влияния любимого нами Василия Макаровича Шукшина, постоянного пытавшегося «схватить за руку Время», вглядеться в души тех, кто находится на пороге небытия либо молодецки заигрывает с судьбой.
Митрич тоже часто шёл поперёк течения, и в жизни, и в творчестве; бодался с обстоятельствами; не хотел думать и делать, как все; ломал банальные нормы общежития и языка искусства.
Какая там размеренная жизнь, какая среднестатистическая семья! Лишь тоска по ней и досада, что, любя, приносит дорогим людям одни страдания. Похоже, что в глубине души он не очень и верил в возможность обыкновенного счастья, не познав его в детстве. Одни воспоминания о пьяном кровавом бараке могут навсегда сделать из человека душевного инвалида.
Он предпочёл просто не оседать на мятежной земле и быть носимым вольным ветром, как цыгане. Когда вдруг станут досаждать обстоятельства, можно легко сорваться с места и лететь вдаль – ведь там, где нас нет, всегда хорошо. А на то, чтобы опровергнуть это, потребна целая жизнь.
Работа режиссёра и есть, по сути, цыганское существование: пристраиваешься на время то в одной точке пространства, то в другой, вливаешься в потоки чужой жизни, омываясь их радостью и необычностью, а в последний момент, когда они готовы уже поглотить тебя, выныриваешь обновлённый и устремляешься прочь, вдаль, постигать иные человеческие миры. Может, это некое космическое путешествие, адаптированное под земные реалии? Но тогда и мечтать нечего об обособленности, о построении своего, если не считать создаваемые произведения.
Вот и бродил-летал по земле Митрич, безнадёжно твердя:
«Я построю дом, из крепких кирпичей. Пусть ко мне придёт белый слон…»
Я не раз отмахивалась от этих строчек, как от дурашливых. Знать бы, в какой рассказ они выльются через годы! Воистину, здесь вам не там. Здесь мы обречены ползать, а не летать. И видеть сначала лужи, а потом звёзды – не в небе, отражённые.
В Митриче всё было наоборот, не как у людей. И когда вдруг пережитое сложилось в первые строчки, он не обрадовался, а испугался. И он – не Митрич, а Юра, потерянный, как ребёнок, – пришёл ко мне в редакцию с ученической тетрадкой: посмотри, что со мной…
Таких тетрадок, пока я не уехала учиться в Москву, набралось с десяток. Первые рассказывали исключительно о студийцах, о походах с ними «в народ». Эти тексты были напечатаны в «Вологодском комсомольце» в начале восьмидесятых под заголовками «Самовар на тропе», «Митрич и лоси», «На озере», «Лошади улыбаются». Даже я, при всей дотошности, не все источники сохранила. Но хорошо помню и «Рыжего», и тетрадка-черновик с «Гариком» есть в моём архиве.
Готовя всё это к публикации, я пришла к удивительному выводу: тексты Половникова, сразу выбравшего себе псевдоним, ставший именем, не похожи на всё остальное, что мне приходилось править для газеты. Обычно я очень легко убирала неграмотности, сглаживала шероховатости, делала сокращения, и авторское сочинение обретало яркость и уверенность.
С Митричем такое не прошло. Корявые фразы, брошенные на полпути предложения, рваный стиль – всё это, казалось, кричало о беспомощности и неуверенности. Но стоило сравнять эти словесные буераки, порыхлить смысл, как текст терялся вовсе, просто-напросто спускался, как шарик.
Я вынужденно стала пробираться сквозь свои исправления к тому, что было изначально. И со стыдом и радостью поняла, что имею дело с самобытностью. Такими и встречаются в природе самородки драгоценных металлов – скромные бесценные прожилки в толще камуфлирующей простой породы. Не в этом ли и есть спасительный смысл подобных находок: стать украшением будней и усмирением нашей земной скорби? Выковыривать из них сверкающие зёрна значило бы нарушать непостижимую целостность мира и ничего не получать взамен.
Думаю, именно газета помогла Юре поверить в свои литературные возможности.
Когда вышла зелёная книжица, большинство рассказов стали для меня открытием. Я и не предполагала, что Юра начнёт писать всерьёз. Я вообще не знала, чем он занимается. Почти на десять лет развела нас с ним не только география, но и резко изменившиеся обстоятельства жизни. Малый ребёнок, подсобное хозяйство, безденежье – мне было не до поездок. А Юра не рвался к нам.
Заимев через людей его книгу, я открыла её в состоянии ревностного жара. Это ж надо, ученик перерос учителя! Радоваться бы, а я внутренне рыдала, ибо завидовала: ни о спонсорах, ни о хлопотах с изданием своих рассказов мне и думать было нечего.
Впечатление от прочитанного осталось тогда смутное. Похоже, меня, купавшуюся в семейном счастье вопреки сложностям экономического порядка, насторожил мистический настрой текстов. Не хотелось вовлекаться в давно уже чужие, далёкие от меня вибрации. Просто не хотелось оглядываться назад: отрезано, значит, отрезано.
Я теперь только начинаю слышать Юрочку по-настоящему. Я теперь только начинаю его понимать…
Разве сытый голодному товарищ? Разве благополучный захочет в друзья неприкаянного?
Юра, как ни хорохорился, был именно вторым, а я не знала ни в чём печали. Ко мне жизнь поворачивалась всегда светлой стороной, а он дрожал в тени, мечтая о тепле. Господи, да у него в каждом почти рассказе дождь, дождь, дождь…
Могла ли я иссушить его бесприютную тоску? Могла ли прогнать являвшихся ему монстров, зовущих испробовать зло? Могла ли язычески целовать рядом с ним землю и рваться в объятия к Солнцу?
Понимаю: нет. А ломать себя не отважился бы никто из нас.
Но перед его текстами я почтительно склоняю голову. Перед многоликой горечью жизни, которую Юра познал и вытащил, кровавую, на свет из своего сердца.
Когда-то нюксенский поэт Николай Фокин посвятил Юре стихотворение, в котором были такие строки:
…Но как мне быть, когда из мрака
Того чужого городка
Вновь выступает тень барака
С охальным гамом бардака.
Там тихо глотки заливали
Дешёвой водкой мужики
И жён любимых избивали
До полусмерти от тоски.
Я до сих пор при слове «отчим»
Весь напрягаюсь, как струна:
Его побоишные ночи
Не вынес бы и сатана!
И я, скрываясь у соседей,
Мечтал, что, может, повезёт:
На праздник бабушка приедет,
Меня в деревню увезёт…
Мне, одарённой счастливым детством, с трудом представлялось описанное. Хотелось думать, что я что-то позабыла или перепутала в воспоминаниях давних друзей.
Рассказ «Эхо» до предела обнажил то страшное прошлое, которое формировало Юру. И почти всё в его жизни стало понятным и объяснимым. Но слишком поздно для того, чтобы что-то исправить в нашем общем вчера.
Сколько раз ещё придётся перечитывать его строки и болеть над ними! В бытовой текучке мы не понимаем и не поддерживаем самых близких, потому что не видим, как скорбит чужая душа. А Слово призвано высвобождать эту боль, чтобы она звенела в пространстве и взывала к прозрению.
Не случайно Митрич написал в одной из стихотворных своих попыток:
«Но мир души моей затем живёт, чтобы страданием своим облегчить жизнь другим…»
Почему же мне сейчас, напротив, становится всё больнее и больнее? Словно свет угасшей звезды по имени Митрич наконец-то дошёл до меня и пронзает насквозь, жжёт. И хочется заговорить со сверкающим в ночи небом, как умел это Юра и его герои, хочется, как они, научиться самой и научить других слышать небесные и земные подсказки.
Помните, в главном рассказе «Тут вам не там» Митрич, назвавшийся Митькой, садится за землю и смотрит на Солнце, зная, что оно подскажет ему, сбившемуся с дороги, верный путь. «Мои родненькие звёзды» – говорит Половников от своего лица в «Эхе». Герой «Рыжего» постоянно разговаривает с землёй, советуется. Да от кого и ждать помощи тем, кто и при матерях часто обречён жить душевным сиротой? А земля – она испокон веков «матушка», нужно только в силу её поверить и не изменять ей.
Это чувство сродни патриотизму. В какой-то момент Митрич вдруг проговаривается:
«Я волен думать, что люблю Россию. Но любит ли она меня?»
Это чувство истинно, потому, что безусловно. Мать всегда мать, любая. Её не выбирают, не бросают. Её за всё прощают.
Этому он учил своих воспитанников. Рядом с ними он был сильным. Он вынужден был быть сильным.
И только квартира, в которой всегда пахло нежилым, – потому что никто не согревал её в его отъезды, – только она и исписанные школьные тетрадки знали, что в действительности было в его душе.
Думаю, не случайно он почти не описывает светлые солнечные дни. Непогода, дождь как нельзя лучше соответствуют его неизбывному внутреннему состоянию. Желанным местом отдыха становится пугающая других грязь. «И мы легли отдохнуть в яму, наполненную водой и песком» («Тут вам не там»).
Вот типичный облик его героя:
«Промозглый холодный город. Мои тряпичные полуботинки искали сухого места. Но везде чавкала грязная жижа. Падал мокрый снег. Город спал. Только бродячие собаки искали уединения, прятались на пустых остановках…Я выдыхал тёплый воздух в шарф, и от этого становилось теплее. Голова была покрыта мокрым снегом. Я – в моём родном пустынном городе».
Вот таким, с заснеженными волосами, он и заявлялся то ко мне, то к другим друзьям и сердобольным знакомым, чтобы переждать ночь и идти, спешить дальше. Куда, зачем?
«Я построю дом, из крепких кирпичей. Пусть ко мне придёт белый слон» – вот зачем, разве не ясно?
Мне не было ясно. Я даже записку с этими словами не сохранила. А она была, стоит в памяти…
«Почему не идём, время теряем – идти надо!» – сердится он на медлительного Жреца.
Но и маленькому уставшему попутчику по имени Наташа тоже не ясно, куда торопиться.
«– Она длинная, дорога, очень длинная. Можно и не идти, только силу тратить. Зачем идти, когда можно и здесь дом построить…» – говорит он в рассказе «Тут вам не там».
«–Нет, Наташа, я хочу идти далеко, я хочу получить всё от жизни», – отвечает Митька-Половников, догадываясь уже, что путь его изначально одинок.
Да и могло ли быть иначе, хоть в жизни, хоть в творчестве, если отличность Митрича от типичных представителей человечества была разительна? Её очень точно обозначает Жрец:
«–А если ты даже и наешься, то тебе будет плохо – ты счастлив только в голоде, холоде, сырости. Это и есть совершенство всего тебя. Если ты не настойчив, в тебе погибнет вера в себя…»
Такого Митрич допустить не мог. И когда Жрец хитренько замечает, что «Ты и я одним миром мазаны. Ты и я в одной луже лежим», его герой Митька в очередной раз находит в себе силы изменить положение дел. Ему непременно нужно было «в Солнце»!
Почему? Лёгкий ответ лежит на поверхности: там непременно будет тепло и сухо.
А глубинный – он утонул в тексте, словно хотел остаться незамеченным:
«Я только сейчас понял, на земле нет нужных чувств».
Хотели? Получили! И даже если найти причину страданий в самом Юрочке, то с нас-то, с меня это никак не снимает ответственности за его неприкаянность.
Не от бесприютности ли душевной заносит авантюрного авторского двойника в магические дебри познания зла в рассказе «Хлебные крошки»?
Не от отчаяния ли заходит герой в «Тоннель», чтобы искать разговора с самим собой?
Почему надежду на обретение домашнего тепла в рассказе «Кукла» ему приходится возлагать на странноватую странствующую игрушку, не способную, при всех её способностях, заменить живого человека и друга?
Почему в рассказе «Эхо» крик его души о потребности отклика ударяется в стену и падает беззвучно, никем не уловленный, не подхваченный?
Почему, наконец, лишь умерший Наташа способен слышать Митьку-Митрича-Юрочку и отвечать ему?!
Вопросы, вопросы…
И не мне давать на них ответ. К каждому они когда-то приходят, взламывая дремотные будни. И каждый волен размышлять над ними или отпихнуть подальше. За свою жизнь («И смерть!» – непременно добавил бы Юра) каждый отвечает сам.
Но если смерть жёстко и бесстрастно сканирует нашу душу, то жизнь выступает безразличной добрячкой, позволяющей ходить в разных ботинках, в пиджаке на голое тело, грызть ногти и ковырять в носу, даже напиваться изредка, чтобы утром встать и начать новый этап. Всё перечисленное свойственно героям Половникова, но не этим определяется их человеческая ценность.
Для него это возможность любить землю, как женщину. И женщину, как землю. Так, как способен герой «Рыжего»
Для него это великое умение рождать из души музыку, которая способна преображать всё вокруг.
«С чистого прозрачного неба полился тёплый прозрачный дождь. Он мыл наши обветренные лица, нашу поношенную одежду, и всё становилось чище. Музыка улетала в далёкий мир и призывала к миру и доброте.
Я заметил, как на мои колени падают маленькие звёзды, которые тут же куда-то исчезают.
Потом весь мир стал сдавливаться в единый квадрат. Уничтожалось всё зло на нашей Земле».
Если вы скажете, что подобные чувства испытывают почти все, то глубоко ошибётесь. При такой слиянности со стихиями, при таком восприятии гармонии трудно долго пребывать в человеческом теле, в искажённом грубыми помехами бытовом пространстве. И в этом Митрич сознавался в рассказе «Тоннель»:
«–Чего мучаешься?
– Всё мучит – жизнь, тоска, народ, государство».
Хочется заботы, внимания. Вот почему многие герои мечтают, чтобы их погладили по голове, возбуждая ответную доброту. Вот почему даже ветер в том мире, где параллельно с нами жил Юрочка, даже ветер умеет целовать…
А раздвоившийся герой «Тоннеля» сам себя уговаривает:
«–Не докури, брось сигарету. И не пей. Тоннель-то длинный-длинный. Дверей-то много-много. А судьба-то одна – пожалей её.
– Пожалей меня, – сказала мне моя судьба».
Потому герои «Приятелей» и упоминают о книжке, в которой «про всю человеческую жизнь», что подспудно чувствуют нехватку ответов на главные вопросы.
А Митрич рассыпает их и рассыпает среди обычных, порою заземлённых сюжетов.
Для воздействия на читателя ему не требуется особых языковых средств, его проза порою слишком проста, малообразна. Именно так требуется писать сценарии: меньше эмоций и красивостей, больше зримого – движений, поступков, диалогов. Мы и впрямь читаем рассказы, словно смотрим кино.
Зато уж если позволит себе Половников сравнение, то так и приостановишься, чтобы повторить его, посмаковать, удивиться. Вряд ли вы прежде пили «чай, пахнущий туманом», и видели «тучи, набитые паклей», вряд ли наблюдали, как «погода потихоньку сохла», или слышали, как она «хлюпала в ботинках». Умение так изящно уходить от длиннот, связывая одушевлённое и неживое, приходит не ко всякому.
Но это тоже результат прорастания воплощённой души в родные небесные сферы, где нет разделения между жизнью и смертью, где всё едино и потому не враждебно. Там вам не тут, тут вам не там…
Это становится особенно зримо в лучшем, на мой взгляд, рассказе про Митьку, Жреца и Наташу. Когда последний советует Митьке не мучиться исканиями, потому что «искание тебя самого найдёт», моё дыхание замирает, ощущая дуновение прозы Андрея Платонова. Словно взявшись за его руку, по той же самой кромке между бытием и физическим несуществованием уверенно ступает и Половников, заставляя героев пристальнейшим образом всматриваться в пограничные ситуации.
Описанные им обстоятельства вовсе не кажутся придуманными, напротив, их ирреальность становится той питательной средой, в которой только и возможно при жизни попытаться угадать запредельные состояния. В самом деле, что и остаётся делать Наташе, кроме как ложиться в вырытую вместе с Митькой руками могилу, если, как сам мальчик говорит, «в меня смерть вошла»? И может ли быть пугающим этот переход, если ты уверен, что это путь к Солнцу, путь в вечность?
Видевший жуткие смерти ещё в детстве, Юра шёл по жизни, не пряча страусом голову в песок, как предпочитает большинство живущих. Потому, понимаю, он страстно и взялся за предложенную мной для съёмок судьбу старенькой Серафимы, не стеснявшейся разговаривать о близящемся уходе.
Как свидетельствуют его записи тех дней, он хотел «жить ради того, чтобы умереть и остаться живым». Он призывал: «Поклонитесь низко – человек умер. Он просто ушёл, когда все думали, что он будет жить на земле вечно».
Чудак! Он избегал объятий, а потом взывал: «Дайте мне обнять время, и оно почувствует боль в моём сердце».
Он умел и почему-то любил чинить часы. Но ходики в моём доме так и не затикали размеренно.
Он рвался за той, которая постоянно от него ускользала и капризничала, и тем самым звала вперёд и вперёд. Он грезил, что когда-нибудь она «встретит тебя, прижмётся, и сладость пройдёт по всему телу. И тебе так сильно захочется творить, что спасу нет. И, позабыв про всё на свете, пойдёте бродить по дорогам. Музы и ты. Ты и Муза».
Может, там они и путешествуют уже неразлучно? Ведь там вам не тут…
«У меня здесь вечность, – говорил Юрочка. – Приходите все – я в Солнце».
Разве сможем мы ему отказать в этой просьбе?
Нина ВЕСЕЛОВА,
Член Союза российских писателей.
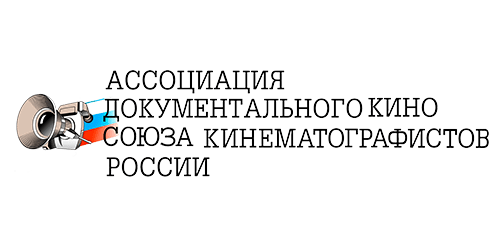
Мы в соц. сетях