КИНО И ПРОЗА АНТОНА УТКИНА
Однажды, в Малом зале Дома Кино я увидел два документальных фильма неизвестного мне режиссера. Это были фильмы «Жито» и «Неперелетные птицы». Они поразили меня чистотой киноязыка, которая проявлялась не только в отсутствии закадрового текста, но в самом методе построения картины, опора на слово не предполагалась даже в мышлении.
И, тем не менее, повествование увлекло меня как чувственная текстура хорошей прозы. «Вот каким должно быть документальное кино», — подумал я тогда, вспоминая наши споры с телевизионщиками о природе документального кино: « Документальное кино – это не журналистика, это – проза». Каково же было мое удивление, когда я узнал, что автором этих фильмов является известный прозаик Антон Уткин. А вскоре я увидел на книжном прилавке возле метро его сборник рассказов «Южный календарь». Я купил его и тут же начал читать, прямо стоя на эскалаторе. Это была та же самая проза, которую я увидел в его фильмах, она словно перетекла с экрана на страницы. Бывает же такое. То, что я долгие годы вынашивал как концепцию, это человек воплотил буквально. Мне очень захотелось познакомиться с ним, и вот мы сидим в баре Дома Кино, который, кстати, уже называется «бар неудачников», что мне очень нравится, и разговариваем. Естественно, меня интересует как обладатель престижных литературных премий (лауреат премии журнала «Новый мир» и литературной премии «Ясная Поляна», финалист Русского Букера 1997 года, роман «Хоровод» переведен и издан во Франции и в Китае), выпускник Высших сценарных курсов игрового кино (мастерская Натальи Рязанцевой) оказался в документальном кино. Антон снял пять документальных фильмов: «Степь», «Царь-свет», «Окружающий мир» (лауреат кинофестиваля «Соль земли»), «Жито», «Неперелетные птицы».
А.У. – В детстве я увлекался живописью и много рисовал самоучкой, но одновременно неплохо владел и словом, хорошо писал сочинения, но когда поступил в университет… Ведь наши способности не плавно развиваются, они отлеживаются, а потом внезапно проявляют себя рывками. Что касается литературы, тут как-то все ясно, у нас все-таки литературоцентричная страна. Во всяком случае, во времена моей юности она с полным правом носила это звание. Мне даже кажется, что любой человек, который владел письменной речью, хотел стать писателем. Может быть, не совсем писателем, но писать – это была наша стихия, как и дышать. Я думаю, мы – представители того последнего поколения, которое завершило вот эту культуру, которая начиналась еще в русских монастырях 11-го века, письменную культуру излагать свои мысли. Письменную, потому что сейчас пришел интернет, тут, я думаю, даже не надо ничего пояснять. Я встречаю жалобы в социальных сетях на то, что совсем молодые пользователи уже не спрашивают ссылку на текст, а интересуются, где это можно посмотреть на Ютубе. Например, как почистить картошку. Это на таком нелитературном уровне тоже слияние письменности и визуального изображения. Вот первое, что я хотел сказать. Теперь на счет курсов. Надо сказать, что когда я туда пошел, главным стимулом для меня был недописанный роман Фитцджеральда «Последний магнат». Я его прочитал. Если Вы помните, это роман о Голливуде, о работе сценариста. Меня очень увлекла та атмосфера, а к тому моменту я уже написал роман «Хоровод». Так случилось, что я с четвертого класса хотел быть историком, два раза поступал в университет. Первый раз я не поступил, потом я поступил после армии на исторический факультет, и поступал бы до бесконечности, и, казалось бы, моя мечта сбылась, я прекрасно учился, но тут случилась обычная для молодых людей вещь. Меня на нашей кафедре не пригласили в аспирантуру. Меня это очень задело, а сам я проситься не стал, хотя и мог. Глупая обида
оказалась сильнее здравого смысла. И я, так сказать, ушел в «свободное плавание», а потом этот зазор между мной и университетом становился все шире и шире. А может, оно и к лучшему, потому что я не прекратил заниматься историей и по сей день. Я и сейчас пишу научную работу.
Г.С. – А на какую тему?
А.У. – На тему генезиса мифологемы судьбы в культуре вообще. Кто такие парки, норны, мойры, рожаницы, судицы. Что это такое в истории религий? Но если шире, то это исследование о происхождении и развитии понятий.
Г.С. – Давно работаете?
А.У. – Это началось с 2013 года, потому что в моем последнем романе «Тридевять земель» есть персонаж, выпускник юридического факультета Казанского университета, который накануне революции пишет в своём имении магистерскую работу, посвящённую именно этим предметам. Эти вещи очень тесно связаны с формированием правосознания у народов, у человечества. Право – наиболее чуткий камертон прогресса, и правосознание любого человеческого коллектива представляет собой бесценный путеводитель по его прошлому. Так я ступил на эту стезю. А потом, надо сказать, по завершении романа, у меня осталось так много интересного материала, что я, сверившись с последними научными работами на эту тему, которые мне были доступны, — я понял, что тема не разработана совершенно. Это увлечение микро-историей, которое было провозглашено на моей памяти, еще когда я учился в университете, пошло это от медиевистов, но очень губительное действие оказало на историческую науку, по-моему. Это стало модным течением, и последние работы, скажем, Института славяноведения в этом отношении я считаю неудовлетворительными. Огромное
количество фактов собрано, но современные ученые прямо говорят, что не имеют права никакой интерпретации и ни в какой концепт вписывать это не желают. Я считаю это абсолютно порочным, даже позорным отступлением от научных задач, которые были завещаны нам предшественниками 19-го века, такими выдающимися людьми, как Ф.И.Буслаев, А.А.Потебня, академик А.Н.Веселовский, А.В.Ветухов и многими другими, чьи имена я не упоминаю просто за неимением места…
Так вот я и решил, оказавшись в этом безвременьи — государства нет, не понятно, что делать, пойти на Высшие сценарные курсы, потому что «Последний магнат» привлек меня той атмосферой. Вот, кстати, направляющая сила слова, мощь литературы. Я поступил туда в 1995 году и очень благодарен курсам за то, что они ввели меня в тот общественный круг, в который я сам никогда бы не попал. Я еще застал Валерия Фрида, моим мастером была Наталья Рязанцева. С другой стороны, наверное, в истории отечественного кинематографа не было более сложного времени для самореализации. Таким образом, чрезвычайно благоприятные факторы были нейтрализованы неблагоприятными. Когда мы заканчивали курсы в 1997 году, у нас училось на всех отделениях вместе человек сорок. По-моему, человек 11 или 12 были режиссерами игрового кино. Свои фильмы они снять не смогли и защищали дипломы в виде раскадровок. Я хорошо это запомнил. В 1997-ом году РОСКОМКИНО смогло профинансировать во всей Российской Федерации всего 13 картин. И единственные, кто работали в этой тяжелой финансовой ситуации, были документалисты, которыми руководили покойный Леонид Гуревич, царствие ему небесное, и Владимир Фенченко. Поэтому отсутствие индустрии тоже оказало влияние на мой выбор, потому что хотелось работать, хотелось что-то делать не на бумаге, а на пленке. И я, поскольку курсы – это тесное пространство, во-первых, с ними дружил, посещал их занятия, просто хотя бы для того, чтобы
дождаться окончания семинара, не сидеть в коридоре, а потом пойти куда-нибудь вместе. Мало-помалу я тоже увлекся их спецификой и принимал участие в обсуждениях. Иногда они просили меня сопровождать их в поездках, помогать, штатив таскать, бегать с сумками. Сил было много, и я с удовольствием им помогал, мне было очень интересно, мы много где побывали, ну, и в какой-то момент я понял, что придет время и очень захочется самому снять документальную картину. Это было такое предощущение. Но пришло это время совсем не скоро. Только спустя 7 или 8 лет появилась такая возможность. По дебюту мы подали заявку на фильм «Степь». Опять же, связь с литературой.
Г.С. — Мы? С кем вы подали?
А.У. – Меня сподвиг на это Дима Завильгельский. Мне запомнилась история, которая представлялась легендой, а оказалась былью. С ней меня познакомил мой хороший знакомый, писатель Владислав Отрошенко, который как раз из тех казачьих мест. Он рассказал мне, что на острове посреди озера Маныч обитает табун лошадей неизвестного происхождения. Сам он там не был, тех лошадей не видел, но постоянно о них говорил, и вот несколько лет мы это обсуждали. В 2005 году так получилось, что в Министерстве культуры не хватало дебютов и нам дали возможность поехать туда и снять картину. Кино уже было смонтировано, а названия не было, и тут я как раз стал перечитывать Чехова, литературоведческие работы о странных особенностях чеховской прозы. И его «Степь» приводилась там как самый яркий пример этой его особенности – нет никой фабулы, а в результате получается такая прекрасная атмосферная, сюжетная вещь.
С.Г. – Когда я смотрел вашу «Степь», думал, что автор пишет ее не буквами, не алфавитом, а красками, как живопись.
А.У. – Именно так, потому что я занимался живописью, и те волшебные краски, которые я увидел, сами по себе производили завораживающее впечатление. Дима Завильгельский, который остался ждать нас на берегу, когда мы с оператором Сашей Вдовиным поплыли на лодке к острову, потом признался, что в эти несколько часов ожидания до прихода темноты он испытал волшебное чувство причастности к бытию, которое породило в нем ощущение счастья. И я подумал, что здесь можно придумать? К нашему разговору очень кстати вспомнить рассказ Набокова «Весна в Фиальте». Там персонаж Набокова говорит: «Я никогда не мог понять, как можно сочинять литературу?» Потому что герой рассказа Фердинанд был именно сочинителем, а Набоков в этом рассказе выступает как продюсер. И я убежден, что в этом рассказе он высказывает свой собственный взгляд на литературу. Там звучат такие слова, что ничего нельзя выдумывать, что нужно следовать или за своим сердцем, или, в крайнем случае, по следам своей памяти. Сердце и память, но ни в коем случае не выдумка. Набоков, мне кажется, сформулировал в этом рассказе главное противоречие в литературе. В лице своего героя Фердинанда он вывел свой главный антипод, то есть сочинителя, беллетриста. Буквально несколько дней назад мне довелось читать отзыв на свою книгу. Там было написано, что я замечательный писатель, но совершенно не умею строить сюжет. Далее автор этой заметки пишет: «единственное, ради чего стоит его читать, это ради прекрасного языка, редких описаний природы и прочее». У меня это вызывает недоумение. Все-таки люди делятся на два лагеря: одни рождены с более сложным восприятием, которое предполагает необходимым совмещение описаний природы, настроений, и усматривают драматизм именно в этом сочетании, другие же ждут одних лишь событий, их комбинаций, развязок, кульминаций, основанных исключительно на действии.
С.Г. – Многие считают, что в кино, игровом, документальном, в рекламе, в чем угодно, важна история. Я когда слышу слово «история», тема кино для меня закрывается. В фильме я ищу прежде всего язык. Не важно, документальное это кино или игровое. Если нет языка, нет кино.
А.Н. – Ну и вообще, я должен сказать про документальное кино, хотя фраза принадлежит не мне, но я сразу дошел до её понимания и приятия: «О какой фабуле можно говорить, если документальное кино рождается на монтажном столе?» Это значит, что сценарий пишется не до, а после съемок, каким бы парадоксом это ни казалось, и это дает гораздо большую свободу, чем в игровом кино. Почему я не пошел в игровое кино? Да потому что там сложно работать, там нет свободы. Ты что-то придумал, что-то увидел, и вдруг приходит какой-то совершенно другой человек, какой-нибудь продюсер или исполнительный продюсер и требует переделать, исходя из каких-то своих соображений, которые тебе совершенно не близки и которые, возможно, ты даже считаешь ошибочными. А ведь потом еще придет, прошу прощения, и режиссер. И вообще, мне помнится, что даже в игровом кино большинство режиссеров, которых мы называем великими, сами писали себе сценарии. И я просто не представляю, как может быть иначе.
С.Г. – Я думаю, что сценарист обречен делать полуфабрикат.
А.У. – Совершенно верно.
С.Г. – И нет никакой гарантии, что с другой стороны к твоему сценарию подойдет твое второе «Я». А если нет, то это еще одна психическая травма.
А.У. – Вот что я еще хотел сказать в связи с природой. Вспомним Томаса Манна. В моем понимании – это величайший писатель, но природы у него нет, вернее, не могу сказать, что ее нет, она на
своем месте, как самая необходимая, самая непритязательная мебель в хорошем доме, однако не более того. Но это и не его, он – музыкант, как и многие немцы. Его последний шедевр «Доктор Фаустус» ясно дает понять, кем был бы в искусстве Томас Манн, если бы не стал писателем и богословом. Безусловно, музыкантом. Это его метод такой. А я бы стал художником, я бы писал картины. И это мой метод, постигать мир интуитивно, помимо заданной фабулы и прочего. И вот почему Вы улавливаете связь между прозой и кино в моем случае. Когда я пишу, то стараюсь сделать прозу осязаемой, чтобы не умом доходило, а был вот такой тактильный контакт.
С.Г. – Вы сказали, что наша страна литературоцентричная, так и наш зритель, и не только массовый, но зачастую и профессиональный, как будто ждет, глядя на экран, что сейчас ему будут что-то говорить и куда-то его поведут.
А.У. – Да, это большая проблема. Однажды мне пришлось иметь дело с корреспонденткой французского телевидения, и я показал ей свой фильм «Степь». Она мне честно сказала: «Я не поняла ничего». И все мои старые знакомые, друзья, которые давно живут заграницей, только со второго показа понимают, что это такой метод. Они ждут слов. Я им говорю: «Вы поймите – это не искусство, когда вам будут говорить: «Вот старая крестьянка, и вот она идет в поле…» Милле или наш Венецианов не делали ведь письменного пояснения к своим картинам. Ну что тут можно сказать? Герой моего рассказа «Камелия» выражает эту проблему в следующих словах: «Если найдется хоть один человек, который проникнет в ваш замысел, значит ваша работа удалась, даже если тысяча твердит обратное».

Беседу провел Сергей Головецкий
кинорежиссер
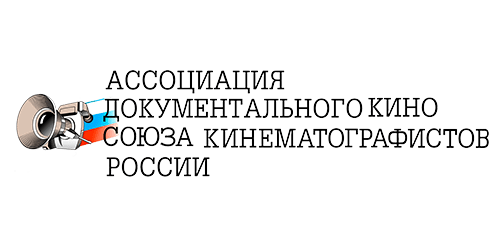

Мы в соц. сетях