КАЖДЫЙ ФИЛЬМ – ЭТО ЗАГАДКА СФИНКСА
Накануне премьеры фильма «СНЫ» известного документалиста Бориса Криницына я воспользовался нашей давней дружбой и задал ему несколько вопросов, которые показались мне совсем не лишними для зрителя этого фильма.
Сергей Головецкий : Борис, на правах друга и участника этого фильма, я начну с бестактного вопроса, но, надеюсь, он тебя не удивит, и ты меня простишь. О чем фильм?
Борис Криницын: – Ты прав, я столько раз задавал сам себе этот вопрос, что попробую на него ответить. В две фразы тут действительно не уложишься. Фильм «Сны» замышлялся, как рассказ о любви императора Александра II к юной княгине Долгорукой. Ему было 50, ей 21 год. Эта поздняя страсть стала для него роковой. История этой любви не является новой ни для кинематографа, ни для литературы. В 1938 году во Франции был снят замечательный фильм «Катя» с Даниэль Дарьё в главной роли. В 1959 году там же был снят фильм «Катя – некоронованная императрица» с Ромми Шнайдер. В 2002 году на нашем телевидении вышел сериал «Любовь императора. Тайная страсть» с Георгием Тараторкиным в роли царя и Наталией Антоновой в роли Екатерины. В аннотации к этому сериалу было написано: «Сериал рассказывает об одном из самых волнующих и красивых романов в русской истории». Перечислять документальные фильмы просто не имеет смысла. И главная мысль у них была одна –« самый красивый и волнующий…». Главное в жизни – это любовь, которая оправдывает всё. Чтобы император имел моральное право на измену, императрицу представляли старой, больной и сварливой. Она уже не могла конкурировать с двадцатилетней красавицей, и зритель всегда был на стороне царя и его любви. Но мало кто вспоминает, что когда между ними было объяснение, то за сорок минут разговора, поседели оба. Свет не принял и оттолкнул Екатерину, армия осудила царя, это его больно ранило, он потерял сон, этот сильный мужественный человек часто плакал.
Но страсти страстями, а это был роман царственной особы. Монархия зиждется на престолонаследии. Престол передаётся первенцу мужского пола. Если царь заводит вторую параллельную семью, то тогда получается два наследника престола. Это неизбежно приведёт к смутному времени, борьбе за власть и поставит державу на грань краха. Как известно, борьба с самодержавием началась с самого начала 19 века, и декабристы были очень близки к успеху. На самого императора было семь покушений, причём, очень жестоких, – хотели взорвать поезд, на котором он ехал, обрушили потолок. Время правления Александра II очень было трудным, – англичане «украли» победу над Турцией, отмена крепостного права прошла спокойно, но это стоило царю большого напряжения.
Когда его сын Александр (будущий император Александр III) заявил отцу, что хочет отречься от будущего престола и жениться морганатическим браком на княгине Марии Мещерской, то получил жёсткий отказ, а княгиня была выслана из России. « Морганатические браки разрушают трон,» – сказал царь, но тогда он ещё не знал Екатерину Долгорукову, но теперь он сам в это трудное время своими руками расшатывал трон. Это он понимал и от этого очень страдал.
– Ты хочешь сказать, что император не имел право заводить вторую семью?
– Конечно, не имел. Это единственный человек на земле, который такого права не имел, иначе разрушалась идея самой монархии. В этой ситуации можно было только сетовать на судьбу, что ты родился первым, но это всё равно, что сетовать на Бога. Но его любовь, его страсть были так сильны, что он ничего с собой поделать не мог. «Любовь, что движет Солнце и светила», так определил Данте Алигьери эту стихию. Может ли один человек с ней бороться? Большинство великих князей имели любовниц, гражданских жён, внебрачных детей. Вся Европа, и не только Европа, были заражены морганатическими браками. Сама императрица Мария Фёдоровна и её брат Александр были внебрачными детьми. А царь, по праву своего рождения, не имел право быть, как все, потому, что от его воли, от его жизни зависели судьбы миллионов людей. И меня поразило, что любовь юной гимназистки сделала для разрушения самодержавия больше, чем все бомбы террористов, потому что те уничтожали монарха, а её любовь уничтожала саму идею самодержавия.
В этой любви для царя столкнулись два понятия – царский долг и личное счастье. Он метался между этими понятиями, и ни как свой выбор сделать не мог. Можем мы его за это осудить? Не знаю. Вот об этом и весь фильм.
— Но как можно о крушении монархии и личной драме, рассказать через сны, а главное, зачем это делать таким образом? Ты сейчас озвучил такой интересный, продуманный, текст, что если бы он прозвучал с экрана, то к фильму не возникло бы никаких вопросов, и он, действительно, поднял бы очень важную, современную тему, касающуюся многих из нас, – долг или личное счастье. Но фильм имеет столь странное изобразительное решение, что зрителю очень трудно будет добраться до твоих мыслей. Сама форма является большим препятствием для этого, притом, что снимала фильм блестящий оператор Ирина Уральская.
– Каждый режиссёр знает, что на бумаге у нас один фильм, снимаем другой, а в монтаже получается третий. В данном случае дистанция между этими тремя фильмами получилась очень большая. Но эти слои не пропадают, а накладываются и просвечиваются сквозь друг друга, тем самым уплотняя смысл. Дело в том, что сейчас поменялся формат экрана. Раньше он был 6+9, а теперь … и это вызвало много проблем с изображением. Как вписать фотографию, хронику или картину в съёмочный материал? Каждый раз приходится искать новый приём. С самого начала ты был задуман, как актёр, который озвучивал текст, как в кадре, так и за кадром. Текст был составлен в основном из воспоминаний и писем того времени, перед глазами которых всё это происходило. Была сделана мизансцена из старинных предметов, скульптур и фотографий, расположенных на столе, за которым ты должен был сидеть. Всё достаточно традиционно, но чтобы обыграть фотографии, я решил их показывать не монтажно, а проецировать их на светлую стену за твоим столом. Это дало бы тебе возможность произносить свой текст, как бы обращаясь к этим людям. Но тут произошло непредвиденное. Я случайно направил проекцию фотографию Екатерины Долгоруковой не на стену, а на гипсовый торс Венеры, стоящий на столе. Изумлению моему не было границ! Формы юной девушки повторили объёмную форму скульптуры, и её лицо исказилось в странной деформации. Но в этом искажении проявилась какая-то сложная гамма чувств. Это лицо являло собой и страх перед будущим, и надежду, и желание любви и ещё много того, что трудно выразить словами.
Я стал экспериментировать дальше. Помнишь, на съёмках ты произносил такой текст, я даже помню его наизусть: «Но на душе у императора было не спокойно. Безумно влюблённый в Екатерину Долгорукую, он должен был сохранять подобие привязанности к императрице, в это время уже умирающей от чахотки». Так вот, когда проекция фотографии попала на скульптуру, то его лицо исказилось до такой степени страдания, глубина его больной совести стала столь очевидна, что я понял, что никакие слова уже не нужны. Они будут отвлекать на себя внимание и препятствовать пониманию изображения. Больше того, столь необычное изображение отталкивает, отторгает от себя слово. И мне пришлось выбирать – или идти по пути традиционного рассказа, или весь смысл отдать изображению, а текст останется в первом бумажном варианте фильма, который окажется за пределами экрана, хотя и будет продолжать влиять на фильм. Но я понимал, что зрителю будет очень трудно самостоятельно воспроизвести тот смысл, который был заложен в дикторском тексте, хочу оговориться – во время просмотра фильма. После просмотра у него будет огромное пространство для размышления.
Мои сомнения разрешил редактор канала «Культура» Виталий Трояновский. Когда я показывал ему материал, в надежде на то , что «Культура» даст деньги на окончание фильма, я всё время пытался объяснить, что я буду делать, чтобы фильм дошёл до массового зрителя. Он слушал, слушал, а потом сказал простую фразу: «Не береги зрителя, иначе ничего не выйдет». И мне всё сразу стало ясно. Он, наверно уже это не помнит, но я поразился, как он быстро распознал будущую стилистику фильма.
– Зритель может и не расшифровывать тот поток символов, который льется на него с экрана, но каждый план настолько красив, что рациональное критическое мышление угасает. Возникает новое пространство между зрителем, экраном и смыслом, которое вынуждает меня определить этот фильм, как новый эстетический манифест.
– Ты — режиссёр, сам участник этого фильма, ты первый, кто его увидел, поэтому я должен был разобраться для себя, что ты вкладываешь в это определение. Для начала, я перебрал в памяти эстетические манифесты авангардных направлений 20 века: кубизм, экспрессионизм, фовизм, сюрреализм и т. д. Этот фильм больше всего подпал под эстетические принципы сюрреализма. Я по первому образованию художник, часто выставлялся в выставочном зале на Малой Грузинской среди московских авангардистов, но сюрреализмом никогда не увлекался, – он мне казался слишком литературным, больше того, мне всегда казалось, что они лукавят в своих манифестах. Их главный принцип заключается в том, что художник должен выплеснуть своё подсознание, но он сможет это сделать только тогда, когда будет отключён разум. Рассудок не должен участвовать в создании образа. Иначе не будет полной свободы самовыражения. Отключить разум было не так просто. Пикассо, например, постоянно рисовал в полной темноте. Сохранились фотографии, когда он рисовал фонарём в прыжке. Но как можно написать сюрреалистическую картину, когда надо продумывать каждый мазок, я не понимал.
В моём представлении, кадры этого фильма, являют сущность самого сюрреализма, – они были созданы без участия разума. Поясню, что я имею в виду. В рассказе о любви, мне неизбежно надо было создать какой – то символ любви, некий эротический знак. Салонные картины этого времени были отвергнуты сразу, они не выражали глубину смысла, – похоть и всё. По этой же причине были отвергнуты и фотографии обнаженной натуры, которые уже были в это время. Выбор остановился на античной скульптуре, но я боялся, что она тоже не сможет быть знаком земной любви, ведь античная скульптура при всей её красоте и совершенстве тела, абсолютно не эротична. Но, когда эти холодные в своём совершенстве боги, при проекции подвергались неизбежной деформации, они становились живыми людьми, со своими простыми человеческими чувствами. Особенно меня поразило, как изменилась скульптурная группа «Апполон и Хлоя». На фотографии скульптурная группа показана со спины. Апполон нежно обнял возлюбленную за талию, а она, трогательно склонив голову, положила руку ему на плечо. Но когда эта фотография была спроецирована на прекрасный торс Венеры и повторила реальные объёмы скульптуры, то получилось нечто необычное. Первое, что бросилось в глаза, это то, что тела совершенно потеряли видимость материальности. Они, как аморфные формы расплылись в пространстве. Мне это сразу напомнило картину Сальвадора Дали «Пространство памяти» или «Утекающее время», на которой изображены размягчённые висящие и стекающие часы. В моей инсталяции тела так же растеклись, пытаясь слиться друг с другом. Я сразу понял, что это тот образ любви, который мне нужен. Невольно пришли на ум строчки Бориса Пастернака: «Скрещенье рук, скрещенье ног, судьбы скрещенье». Больше того, в этом образе я увидел прямое воплощение библейского изречения, что когда муж и жена соединятся «И будут двое одна плоть». Вот так реализовался один из самых сложных образов при раскрытии этой темы. Но я рассказал эту историю вот с какой целью. Да, я понимал, что получился сложный многоплановый образ, но меня поразило то, что я в создании этого образа я не принимал никакого участия, ни мои мысли, ни мои чувства, ни моя воля в этом процессе не участвовали! Не участвовали потому, что предсказать результат проекции на объёмный предмет совершенно не возможно, даже если ты обладаешь «бешенным» воображением. Ещё раз повторю – результат совершенно не предсказуем. Так что сложилась в высшей степени сюрреалистическая ситуация свободы, когда разум и воля отключены. Тогда я задал себе вопрос, а в чём же тогда состоит моя миссия художника? А моя задача состояла в том, чтобы увидеть то символическое содержание, которое мне было даровано случаем, божественной случайностью. И рождение этой случайности я тебе и описал. Но я должен не только увидеть и разгадать этот символ, но построить фильм так, чтобы этот символизм дошёл до зрителя. Я прекрасно понимал, что зритель может и не знать строчки Пастернака, и не вспомнить цитату из Библии, но сама энергия этого смысла уже заложена в самом изображении и она должна отразиться если не в сознании, то в подсознании зрителя.
Чтобы этого добиться, я применяю другой принцип монтажа. В этой работе монтаж осуществляется не линейно, традиционным способом, а через наплывы, через двойную экспозицию, причём, наложение планов по времени длится столько же, сколь и план без двойной экспозиции. При наложении планов, изображение полностью теряет свою предметность и зритель видит мир, как осмысленный животворящий хаос, из которого рождается новая реальность. Этим я пытаюсь подчеркнуть уникальность неповторимость каждого плана.
– Ты отдаёшь себе отчёт в том, что наш зритель воспитан на другой кинематографической лексике?
Это постоянный предмет моих рассуждений. Общим местом стало утверждение, что мы живём в эпоху дегуманизации. Дегуманизация захватила не только искусство, но и всю нашу жизнь. Человек стал не интересен, прежде всего, пропал интерес к его внутреннему миру. Человек потерял интерес и к Богу. А что у него тогда осталось? Собственное Я. Мир стал делиться на две категории – Я и не Я. Всё, что не Я, не имеет никакого смысла, не представляет никакого интереса и вообще недолжно существовать. С этой точки зрения, этот филь не является пост модернистским, потому, что он всецело о внутреннем мире человека. Ты сам говоришь, что этот фильм, – сеанс психоанализа императора Александра II и одновременно психоанализ самого зрителя. Если зритель попадёт в это пространство внутреннего мира героев фильма, то он уже не будет ни осуждать, ни прощать, – он будет только сострадать. Поэтому и выбран сон, как жанр, который позволяет глубже проникнуть во внутренний мир человека.
– Признаюсь, я посмотрел фильм как один долгий сон, наслаждаясь пластикой и странностью этого сна. Это совсем не тот реалистический опыт, в котором мы привыкли проживать большинство фильмов, тем более, документальных. Это было похоже на сеанс психоанализа. Почему нет? Думаю, братья Люмьеры тебя бы поддержали.
Сергей Головецкий, кинорежиссер
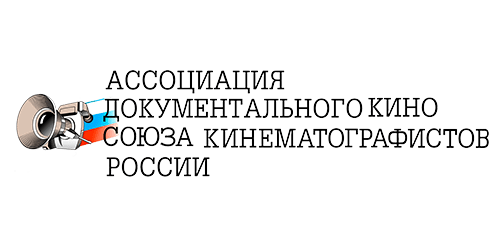

Мы в соц. сетях