Ассоциация документального кино СК РФ в газете «СК-НОВОСТИ» №4 (402) 19 апреля 2021
Граница между игровым и документальным кинематографом, вроде бы, вещь понятная. Но где та грань, после которой игровое кино воспринимается уже как материал для документального ? Об этом мы решили поговорить с режиссером Борисом Криницыным.

Но прежде хочется сказать , что для себя я открыл этот секрет неожиданно, просматривая в Красногорском архиве хронику для будущего фильма. И хотя наш гениальный современник Андрей Тарковский уже определил кино как запечатленное время, а мы восторженно с этим согласились, зритель по-прежнему продолжает искать в кино сюжет, историю, рассказанную автором и, попадаясь на этот «крючок», «прозевывает» главное, то самое «многоуважаемое время», ради которого братья Люмьер изобрели кино. Кстати, тут же кроется и ответ, почему Люмьеры «завязали» с кинематографом. А потому, что тогда они еще не могли в полной мере «вкусить» его как «запечатленное время».
Чего же им не хватало? Дистанции, дистанции времени. Для того, чтобы ощутить кино как кино, необходимо «выйти» из того времени, в котором протекает кино. Люмьеры стояли слишком близко к целлулоиду с образами, чтобы оценить его уникальность, вот им и стало скучно. Но, как «отцы кинематографа», они уже тогда не могли не почувствовать, что литературно-сюжетный путь для их изобретения – это пошлость.
Что же дает нам архив? Произвольно открывая разные коробки с пленкой, мы изначально свободны от сюжетного замысла авторов тех лет, и наши глаза невольно «упираются» непосредственно во Время, его фактуры, текстуры, лица, плоть. Дистанция времени исчезает, и мы становимся точкой пересечения двух параллельных прямых, которые в Эвклидовой геометрии никогда не пересекаются, а в геометрии Лобачевского точкой
пересечения этих прямых становится стул напротив монтажного стола, за которым вы сидите. Пока с легким потрескиванием пленка прокручивается через проекционное окно, ваше личное время пересекается с целлулоидной линией времени столетней давности. Пересечение двух времен дает не только благодатное чувство прикосновения к вечности, но и раскрывает невиданные и непонятые ранее смыслы.
А когда я оказался в Малом зале Дома Кино на просмотре фильма своего товарища Бориса Криницына «Двадцатые двадцатого в 21-м», то понял, что не один я такой умный… Объектом своего интереса Борис сделал игровые фильмы времен НЭПа, то есть он рассмотрел эти фильмы с дистанции столетней давности, и эта новая оптика времени позволила увидеть и деконструировать не только материальную среду и фактуры того времени, но и его идеологию, мировоззрение, конфликт нравственных ценностей, который определил слом эпохи. Кинокадры, сложенные Борисом Криницыным в новую «мозаику», как бы задним числом обнаруживают совсем другие смыслы, чем те, которые были заложены в них сто лет назад. Этот фильм необычного жанра, он длится полтора часа, но в нём нет дикторского текста – одно изображение и музыка и редкие «родные» титры; сложен он из фрагментов игровых фильмов, но ни у кого нет сомнения, что этот фильм – документальный. Мы решили попросить рассказать Бориса, как рождался столь необычный жанр.
Борис Криницын. Документальный фильм «Двадцатые двадцатого в 21-м», как уже было сказано, состоит из фрагментов игровых фильмов двадцатых годов. Эти фрагменты отразили жизнь страны с самых разных сторон: мы видим, как люди работают, едят, пьют, веселятся, страдают, любят. Так как наша страна многонациональная, то в фильме присутствуют сюжеты, снятые грузинами, армянами, евреями, белорусами, украинцами. Соединив эти сюжеты в одно целое, зритель сможет представить себе цельную картину того времени. Причём в фильм сознательно не были взяты классики мирового кино – Эйзенштейн, Пудовкин,
Довженко и Вертов. В фильме представлено мало известное или почти забытое, «второе кино» тех лет, но именно это кино смотрел зритель и узнавал себя на экране. Это кино настолько точно отразило время, что его можно смело назвать не только второе игровое кино, но и второе документальное.
Обратиться к этой теме меня подвигла книга Ирины Николаевны Гращенковой «Киноантропология 20/ХХ». В этой книге подробно анализируется кино 20-х годов и то время, в котором рождались эти фильмы. Ирина Николаевна нащупала очень чувствительный нерв времени, который имеет прямое отношение к нам, – это попытка переделать человека. Это активная попытка началась именно тогда, после революции, в двадцатые годы. Но эта попытка была началом гораздо более грандиозного явления – разрушения прежней цивилизации, основанной на христианских и гуманистических принципах, и построения совершенно другой. Эта новая цивилизация проявила себя как дегуманизация мировоззрения, образа жизни, как дегуманизация искусства. «Дегуманизация» – это не моё определение, так наступающую эпоху определили философы и искусствоведы уже в двадцатые годы, причём приняли такое определение с восторгом. Дегуманизация искусства проявила себя очень ярко. Малевич, Пикассо, Стравинский… их произведения у всех вызывали восхищение новыми возможностями искусства, необычными выразительными средствами. Надо сказать, что этот фильм тоже сделан в эстетике, приближённой к эстетике авангарда двадцатых годов. Я постоянно вспоминал русский конструктивизм и фотоколлажи Александра Родченко. Этот фильм также сложен по принципу коллажа, только развёрнутого во времени. В нём нет традиционного сквозного действия и главного героя.
Это наступление новой эпохи, эта диффузия двух начал уже отчётливо проявилась в кинематографе 20-х годов и вызвала мой интерес.
Каждый эпизод в фильме имеет несколько слоёв смысла. Во-первых, это отражение быта и нравов колоритного времени НЭПа. Наряды, мода, узнаваемые городские пейзажи – всё это вызывает щемящую ностальгию и грустную улыбку.
Но каждый эпизод имеет свой символический смысл, ради которого он и попал в фильм.

Например, сеанс гипноза из фильма «За ваше здоровье» режиссёра Алексея Дубровского, с которого после пролога начинается фильм. Под воздействием гипноза люди засыпают, подчиняясь воле гипнотизёра. Когда их разум парализован, гипнотизёр может делать с ними, что захочет. Он даёт команду поднять руку, и они все поднимают правую руку. Это напоминает прежнее голосование на наших собраниях. Но возникает ещё одна ассоциация – с офортом Гойи «Сон разума порождает чудовищ».
В этом эпизоде есть ещё один значимый для нас сюжет: спящему человеку острой металлической спицей прокалывает руку, но боли он не чувствует. Сразу возникает мысль: чтобы переделать человека, надо не только подавить его волю к сопротивлению, но и лишить его защитных функций, ведь боль, страх, стыд даны человеку для того, чтобы предупреждать его об опасности, чтобы он ясно понимал, где проходит граница жизни и смерти. Но, больше того, эти функции имеют и глубокий духовный смысл – без них человек не способен отделить добро от зла.
Из нашего времени совершенно по — другому видится сюжет из фильма Иванова – Баркова «Иуда».
Стержнем прежней цивилизации была вера в Бога, поэтому, чтобы переделать человека, этот стержень надо было сокрушить любой ценой. Здесь все средства хороши: гонения, казни, но самым эффективным оказалась ложь.
В фильме представлен страшный эпизод – священник перед расстрелом, перед возможной смертью, а по церковным понятиям – перед переходом в вечность, отрекается от Бога и бросает крест в грязь. Отречение – это твоё право выбора, осознанное убеждение, твоя свободная воля. Но кощунство, поругание того, чем жили, что хранили и донесли до тебя сотни поколений твоих предков, – чем можно оправдать?
Я всё время пытаюсь понять, что должен был чувствовать актёр Борис Фердинандов во время этой игры, что должна была чувствовать группа, когда
видела, как снимают крест, валяющийся в липкой грязи. Психологи говорят, что самоубийство – это прежде всего отречение от своего прошлого.
Но теперь мы знаем, что на экране была ложь. Народ не совершил самоубийства. Священники претерпели страшные гонения, но не отреклись от Бога и сохранили для нас и церковь, и веру.
Сегодня, когда снова и заводы, и земля в частной собственности, совершенно по-другому воспринимаются эпизоды экспроприации фабрики и чёрного передела земли. Особенно драматично выглядит чёрный передел в фильме «Хлеб» режиссёра Николая Шиповского. Уродливо смешной кулак никак не может согласиться с тем, что у него ни с того ни с сего отнимают землю – его землю и отдают «кому мало», кому не хватает! И делает это эпический красавец, вернувшийся с фронтов Гражданской войны. Красота актёра Луки Ляшко и его уверенность в своей правоте – ведь он берёт не для себя – является единственным оправданием происходящего.
И ещё, что принесло с собой новое мышление – «сильный имеет право на всё». А те, «кому мало», ещё не потерявшие чувство стыда, стоят неподвижно, застывшие в нравственном столбняке. Они ясно ощущают на себе Каинову печать, глядя на происходящее.
Ещё раз вспоминаешь иголку под кожей во время сеанса гипноза и понимаешь, что человека отучали чувствовать не только свою боль, но и чужую, а это так же опасно.
Прошло сто лет со времени создания этих фильмов. Как поменялось наше мировоззрение, как изменился человек, как сместились акценты в наших оценках происходящего? – обо всём об этом должен задуматься сам зритель.
Мы говорили, что у эпизодов несколько слоёв смысла – это исторический, социальный, символический, но самый главный это, конечно, эмоциональный. Фильм располагает зрителя к размышлению, но если он и не зафиксирует свои размышления в слове, то на эмоциональном уровне он всё поймёт, и поймёт гораздо больше, чем можно выразить словами, – ведь для этого и существует искусство.
Тем более что снимали эти фильмы выдающиеся режиссёры и играли в них гениальные актёры, тогда ещё совсем молодые, а теперь – гордость нашей кинематографии. Они творили в самых невероятных условиях: сколько раз пытались исказить также и их человеческий образ, но, несмотря ни на что, они создали потрясающее жизнеутверждающее искусство. Переделка человека в то время, очевидно, не удалась.
Одна из задач фильма – вспомнить наши истоки, постоять босиком на той благодатной почве, на которой мы все взросли, отдать дань уважения и признательности нашим великим мастерам. Поэтому титры в фильме имеют свой особый смысл. Имена создателей двигаются на экране под танго «Я вас по-прежнему люблю». Но это старое танго звучит как праздник искусства, как гимн победителей.
— Хочу показать твой фильм моим студентам в Икутске и прошу тебя, зная твой большой опыт работы с хроникой, рассказать о своих принципах работы с архивным материалом: я думаю, что это будет интересно не только моим ребятам.
Я никогда не рассматриваю хронику как иллюстрацию своих мыслей, как доказательство своего понимания истории. Для меня хроника, как ты обратил внимание, это запечатлённое время, наша зримая память, которую надо бережно хранить.
Я не режу сюжеты на короткие планы, когда важно не то, что ты показываешь, а что ты говоришь. Я стараюсь максимально сохранить эпизод в той длительности, в какой его снял оператор. Мне интересно, что он посчитал важным, интересным и необходимым донести до других, а значит, и до нас, какие детали его привлекли, что его удивило, что восхитило. Так, смотря на мир его глазами, мы сами переносимся на сто лет назад.
Я часто называю работу с хроникой «реставрация времени». И это определение не так уж и далеко от правды. Реставратор медленно и осторожно, боясь повредить подлинное изображение, снимает с поверхности, например,
иконы, копоть, грязь, потемневший лак и поздние записи, пока наконец перед ним не открывается удивительный образ, пришедший к нам через столетия.
Почти то же самое происходит и в работе с хроникой. Время не доходит до нас в чистом виде. Проходя через десятилетия, оно обрастает домыслами, догадками, сплетнями, чужими мыслями, анекдотами, сознательной ложью, сокрытием и искажением фактов; часто прошлое используют как унижение нации и рычаг для переворотов. Всё это надо смыть с доски нашей памяти, и тогда проявится ясный, порой очень жёсткий, но всегда подлинный образ времени.
В литературе есть такой жанр – агиография, описание жизни святых. Главная задача авторов, которые пишут жития святых, – это не привнести ничего от себя – ни своих оценок, ни своих эмоций. Так же надо работать и с запечатлённым временем: бережно и осторожно, боясь повредить и исказить, тогда время обязательно откроется и всё скажет само за себя.
-Можешь пояснить свою мысль? Реставратор пользуется специальными средствами и специальными инструментами и чисто механически снимает старый лак. Как это можно очистить время? К нему же нельзя прикоснуться? Я понимаю, о чём ты говоришь, но всё же хочу услышать от тебя.
Б.К. Отвечу примером. Виктор Петрович Лисакович, признанный мастер работы с хроникой, рассказывал такой случай. Он очень долго работал с архивной хроникой революции и нашёл необычный план, отражающий весь трагизм происходящего. Все мы помним знаменитый план, без которого в советское время не мог обойтись почти ни один фильм о революции. Солдат, стоя на высокой лестнице, прикладом сбивает царский герб и бросает его вниз в бурлящую толпу. Яркий символ победившего народа, победившей революции. Лучше не придумаешь. Но Виктор Петрович нашёл этот план во всей его подлинной длительности. Оказывается, сбросив герб России, солдат не удержался на этой лестнице и упал сам. В этой полноте, план имеет уже совсем другой смысл. Те, кто использовал первую часть плана не знали его продолжения и невольно
искажали время, а Виктор Петрович смог увидеть очищенное время, не замутнённое идеологией.
-У большинства твоих фильмов, сделанных на одной хронике, не имеют дикторского текста. Ты не боишься, что зритель, привыкший, что основная информация передаётся словом, не поймёт, что ты хочешь сказать?
Б.К. Конечно, «сектор обстрела» фильма без слов, сужается, я это понимаю, но я убеждён, что такой жанр должен существовать.
Мне очень нравится иметь дело с немым кинематографом. Дело в том, что слово уже заложено в самом изображении, его надо только услышать и проявить. Дикторский текст может повредить «звучащему изображению». Сейчас всё чаще стали появляться архивные фильмы без текста. Я вспоминаю, как обсуждали члены жюри фестиваля «Радонеж» фильм Алексея Малечкина, посвящённый столетию архивной службы «Россия. Многие лета». Один из членов жюри сказал: «Такой большой фильм, без слов, а всё понятно». На что другой член жюри удивился: «Как, разве там нет дикторского текста?»
В заключении я хочу сказать, что фильм «Двадцатые двадцатого в двадцать первом» сделан на киностудии «Своё слово», продюсеры Алексей Малечкин и Денис Соколов.
Я хочу сказать слова благодарности историку кино Евгению Марголиту, чьи лекции — показы кинофильмов 20-х годов под живую музыку Филиппа Чельцова, как оно и было сто лет назад, дали глубокое погружение в кинематограф тех лет.
Работа над фильмом началась в Госфильмофонде в Белых Столбах. И началась она с чтения огромного количества монтажных листов. На этом этапе неоценимую помощь оказала начальник архивного отдела Галина Попова. Это не только специалист высокого профессионального уровня, но и человек, обладающий высокой культурой труда.
Монтировал фильм Сергей Гарькавый. На него легла трудная задача – из каждого эпизода надо было сделать свой маленький фильм со своим началом и концом, но, больше того, надо было сохранить нетронутой и донести до зрителя драгоценную пыльцу времени.
Так как в фильме отсутствует дикторский текст, то особое место принадлежит музыке. Именно музыка Людмилы Волковой наполняет изображение, снятое сто лет назад, современным смыслом. Музыка не копирует изображение, не иллюстрирует его, а, отдаляясь на некую дистанцию, создаёт напряжённое силовое поле смысла.
От автора. Указывая в конечных титрах фильма членов съемочный группы, мы неизменно упускаем еще одного автора, который никогда не прекращает своей работы над фильмом, и даже над каждым кадром фильма. – Это время, и с каждым часом, каждым днем, каждым годом его влияние на фильм становится все сильнее и сильнее, пока оно не станет главным героем фильма.
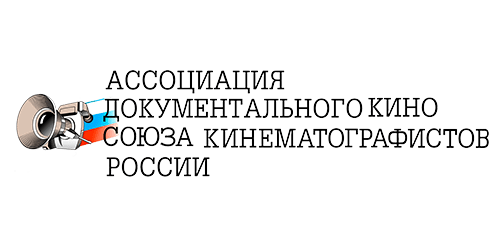

Мы в соц. сетях